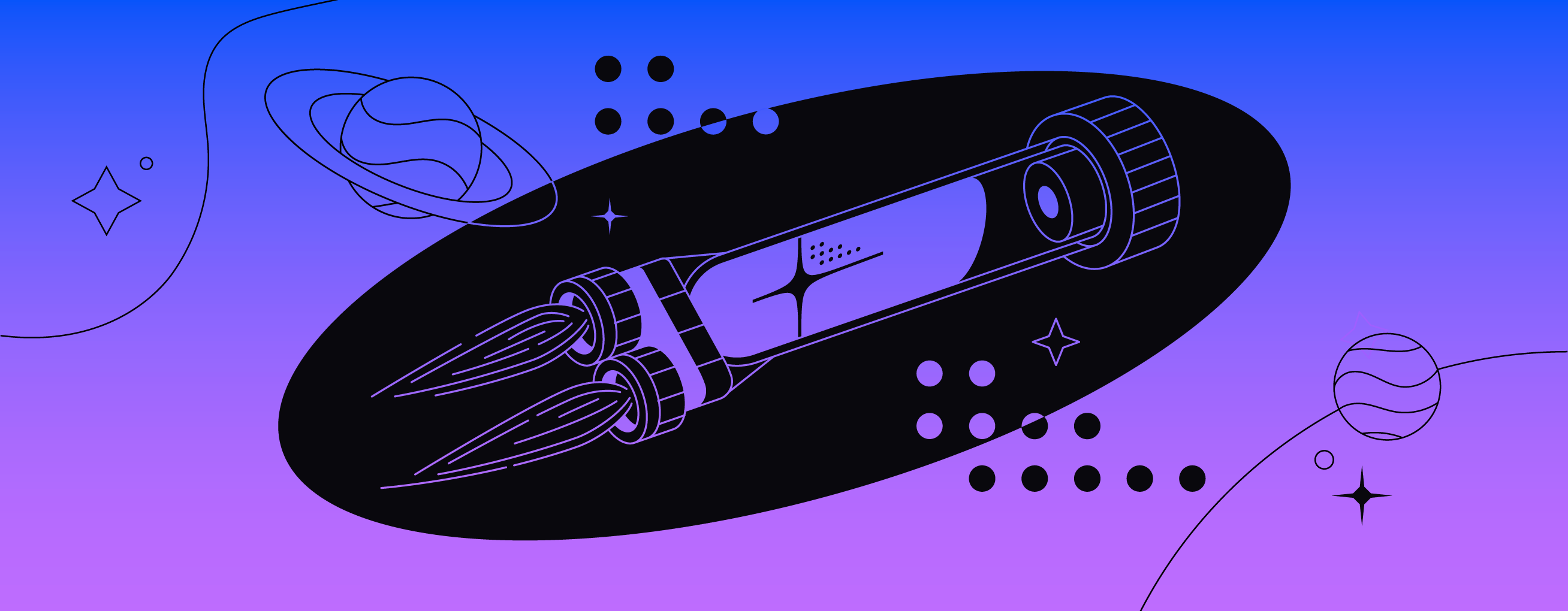
Департамент клинической разработки: адаптируем путь лечения
Клинические исследования препаратов по степени сложности и по масштабам напоминают настоящую космическую миссию. Изучение различных показателей лекарства на людях перед выходом в «открытый космос» — на рынок препаратов — считается самым затратным и самым длительным этапом разработки. В случае с Ивлизи® лекарственный маршрут не был простым и однозначным — с самого начала мы столкнулись с огромным выбором разных терапевтических возможностей этого антитела, а в самой разработке впервые в компании применили определенную методологию адаптивного дизайна, что позволило сократить время до регистрации ЛП. Однако это не помешало Ивлизи® стать первым препаратом BIOCAD, который получил регистрацию по правилам ЕАЭС. Но обо всем по порядку.
«Дивные горизонты»: что скрывается за наименованием
За обоими наименованиями препарата — и торговым, и международным непатентованным — стоит своя история. «Ивлизи» — это аббревиатура из трех фамилий сотрудников, которые работали над этим проектом. А в наименовании МНН «дивозилимаб» спрятано «диво дивное», так как хотелось подчеркнуть необычность и интересность этого проекта. Уникальность дивозилимаба в том, что он стал первым российским оригинальным моноклональным антителом против анти-CD20. А еще эта молекула была изначально смоделирована in silico, на компьютере, что считается очень неклассическим подходом. Да и частота введения препарата тоже очень интересная — всего лишь раз в полгода. Здесь хочется подсветить: это не через день, как часто бывает при терапии рассеянного склероза, и даже не три раза в неделю, а всего лишь дважды в год!
Кстати, созвучное название досталось и третьей фазе клинического исследования — MIRANTIBUS. Сначала витала идея о том, чтобы назвать клиническое исследование еще ближе к «диву» — например, MIRACULUM. Но это название в итоге досталось клиническому исследованию для другого нашего препарата — Фортека®, МНН пролголимаб, клинические исследования которого уже стартовали. Поэтому, чтобы не дублироваться, мы остановились на другом латинском названии.
К слову, молекула anti-CD20 уникальна по своему терапевтическому охвату: ее можно использовать для лечения многих заболеваний, от аутоиммунных до онкологических. Если изучить показания к применению для других препаратов anti-CD20, можно увидеть, что здесь есть и терапия неходжкинских лимфом, и лечение хронического лимфолейкоза, и системная красная волчанка.
Оцениваем потенциал Ивлизи®
На старте клинических исследований Ивлизи® была интересная особенность. Дело в том, что в первой фазе участвовали сразу пациенты, а не здоровые добровольцы, как это принято в классической схеме. Такое решение было выбрано из этических соображений: anti-CD20 угнетает В-лимфоцитарное звено иммунной системы, что создает дополнительные риски для организма. Поэтому исследовать действие дивозилимаба более целесообразным оказалось уже на пациентах с аутоиммунными расстройствами.

Сложностью, но одновременно и нашей победой стал дизайн клинического исследования II фазы. Чтобы провести его на должном уровне и результаты такого исследования на самом деле имели бы доказательную базу, мы должны были сравнить эффективность и безопасность нашего препарата с другим активным препаратом — тем, который уже зарегистрирован и который пациенты могут получать в реальной клинической практике. Но и этого может быть недостаточно, когда ты разрабатываешь препарат для лечения РС. Помимо препарата сравнения, другая часть пациентов не должна получать никакой терапии на короткий период времени (не более 6 месяцев). А также исследование должно быть слепым, то есть ни врач, ни пациент, ни мы (кроме очень узкого круга лиц) не должны знать, какой именно препарат принимает пациент и принимает ли его вообще. И тут, конечно, пришлось поломать голову.
Нам надо было выбрать, какой препарат сравнения мы будем использовать. Уточню, что Ивлизи® вводится в виде внутривенной инфузии в течение нескольких часов. К моменту запуска КИ было достаточное количество зарегистрированных препаратов. Однако большинство из них должно вводиться подкожно или внутримышечно через день или три раза в неделю. Сделать «пустышку» таких препаратов несложно. Но тогда бы получилось, что часть пациентов вводила бы ее себе самостоятельно в домашних условиях. И за год это минимум 144 укола «пустышкой»! Мы всегда в первую очередь думаем о пациентах. Поэтому решили в качестве препарата сравнения использовать препарат в таблетках. В итоге у нас получился не просто двойной слепой дизайн исследования, а еще двойной маскированный. Конечно, были нюансы. К примеру, надо было убедить научное сообщество в гуманности такого исследования, так как на тот период только в единичных иностранных КИ применялся подобный подход. Но мы, я считаю, блестяще с этим справились, проведя ряд экспертных советов. И регулятор с нами также согласился. Свои результаты мы представили на постерных конференциях ECTRIMS в Берлине и Стокгольме и на конференции во Франции.
Если глобально оценивать ход всей клинической разработки Ивлизи®, то в протоколе клинического исследования мы придумали и применили адаптивный дизайн. Суть его в том, что мы используем часть данных из КИ II фазы для доказательств гипотезы в КИ III фазы. И как результат, сокращается срок выхода нового препарата на этап регистрации, а значит, снижаются затраты на клиническую разработку и ускоряется доступ пациентов к терапии. Впоследствии мы распространили эту модель и на другие наши проекты.
Взаимодействуем с научным сообществом
Пожалуй, именно с Ивлизи® нам удалось вывести клиническую разработку на новый уровень. Помню, как мы приезжали в Москву на встречу с экспертами, чтобы защищать новый адаптивный дизайн исследования. Мы тогда встречались с ведущими неврологами, чтобы убедить их в правильности и этичности такого дизайна клинического исследования. С того момента мы начали еще более плотно взаимодействовать с медицинским и пациентским сообществом, врачами и экспертами здравоохранения. Проводили встречи, получали фидбек от ведущих медицинских и научных специалистов. Вся эта совместная работа позволила нам укрепить научное взаимодействие с коллегами-врачами. И если тогда, в начале пути, подобные научные коллаборации были для нас необычны, то сейчас это уже стандарт, по которому мы работаем, привлекая ведущих экспертов научно-медицинского сообщества к разработкам компании.
После этого у нас был большой исследовательский митинг под Москвой, когда мы уже запускали вторую фазу клинических исследований. Наверное, вот это постоянное общение с экспертами из медицинского сообщества, погружение в глобальный международный контекст клинических исследований и повлияли на то, что Ивлизи® стал первым препаратом в компании, который получил регистрацию по правилам ЕАЭС.
Поводим итоги
Оглядываясь назад, понимаешь, как важно было не упустить время, разработать первый российский оригинальный препарат для терапии рассеянного склероза, оценить его эффективность и безопасность и сделать инновационную терапию доступной для пациентов. Так было и с проектом Ивлизи®, и с Тенексиа®, да и с остальными нашими препаратами. По срокам набора субъектов для клинического исследования у нас была неимоверная скорость. Возможно, это тоже внесло свой вклад в ускорение процесса регистрации по правилам ЕАЭС. Уже потом, после Ивлизи®, мы начали регистрировать другие наши препараты, например Тенексиа® — этот препарат зарегистрировали спустя три недели. Но Ивлизи® все же стал первым.
С этим соревнованием по времени — не хотелось терять ни минуты! — связан еще один забавный факт. Оба проекта — и Ивлизи®, и Тенексиа® — попутешествовали со мной по миру. Например, один из отчетов по клиническому исследованию BCD-054 (Тенексиа®) я писала в Таиланде, отчет по клиническим исследованиям первой фазы BCD-132 (Ивлизи®) и протокол второй фазы — в Латвии, а отчет по BCD-132 второй фазы — на Бали.
Еще одна любопытная история произошла при работе с врачами-исследователями. Как клиническое исследование происходит на практике: потенциальный участник приходит в медучреждение, подписывает добровольное согласие на участие в этом проекте, проходит ряд процедур и обследований в течение какого-то времени, эти результаты проверяются нашими медицинскими мониторами, которые и дают «зеленый свет» врачам присвоить участнику свой личный номер и вводить препарат. И обычно медицинский монитор заранее дает «зеленый свет».
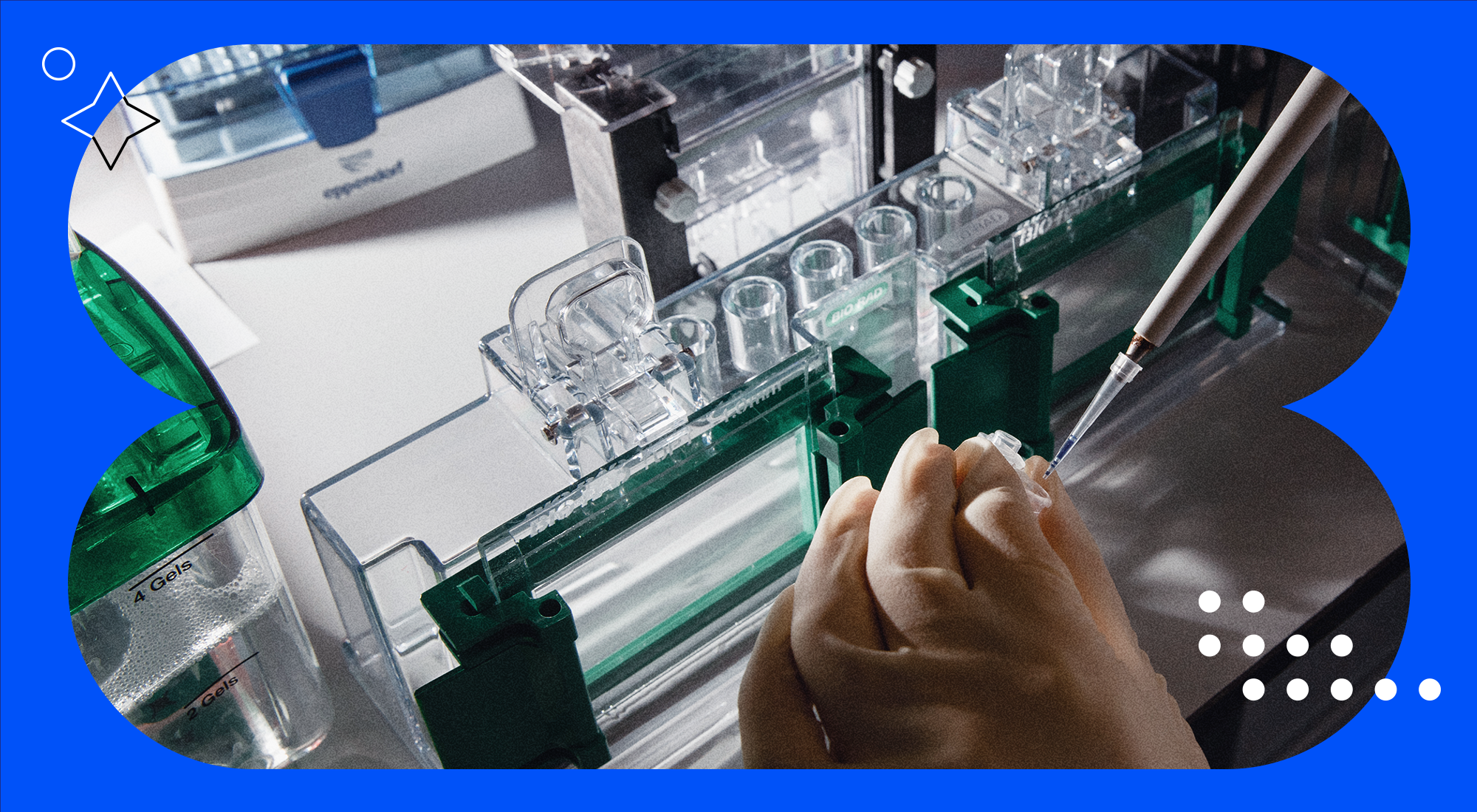
Но в этом КИ надо было провести специальное обследование прямо в день введения препарата, и только после проверки этих данных нами врачи могли начинать инфузию. И вот однажды мне в пять утра кто-то звонит: «Арина Валерьевна, нам нужно капать пациента, откройте рандомизацию». Оказывается, это звонил врач из Новосибирска, которому нужно было согласовать в электронной системе, что данные обследования не противоречат критериям отбора и он может вводить препарат пациенту, который пришел к нему на прием. Так произошло из-за разницы в часовых поясах: в Сибири было уже девять утра, а у нас только пять. В итоге пришлось будить нашего монитора и рандомизировать потенциального участника из Новосибирска.
Подытоживая, скажу, что испытываю очень теплые чувства и большую благодарность к этим двум нашим проектам — Ивлизи® и Тенексиа®. Благодаря им у меня завязалось большое количество дружеских отношений с неврологами, и мы продолжаем общаться до сих пор, несмотря на то что живем в разных городах. Приятно видеть, как растут коллеги: со многими мы начинали сотрудничать, еще когда они были молодыми врачами, а теперь некоторые из них уже доросли до заведующих отделениями. Я тоже приобретала новый опыт вместе с этими проектами: начинала работать с Ивлизи® с самого начала, еще когда только пришла в компанию в роли медицинского эксперта. Поэтому для меня эти два проекта стали теми самыми препаратами, с которыми мы росли вместе в BIOCAD.
